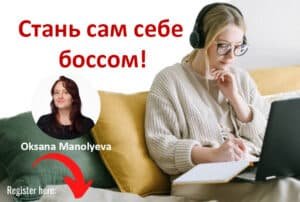Писатель. Поэт. Родилась в Новгороде, с 1991 по 2002 жила в Израиле, с 2002 г. живёт в Канаде. Врач-ревматолог, замужем, трое детей. Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя 2020 год журнал «Новый Свет», Торонто, Канада. Рассказы, повести и стихи печатались в журналах «Южное Сияние», «Дальний Восток», «Этажи», (Россия), «Литературный Иерусалим» (Израиль), «Эмигрантская лира» (Бельгия), «Новый Свет» (Канада), а также в интернет-журнале «ЛИTERRAТУРА» и на литературном портале #Textura.
Книги:
«Голос твой», стихи, 2015 г., Тель Авив.
«В переводе с птичьего», стихи, 2018 г., изд. «Время», Москва.
«Мурашки для Флейты» проза, 2019 г., изд. Blue Ocean Theater Studio Майами.
Содержание
- Рассказы
- Про Глебушку и Зорьку
- Про Матушкина
- Безымянная Картина
Рассказы
Про Глебушку и Зорьку
Писателя звали Глеб Иванович.
Зорька придумала дразнилку «Глебушка, дай хлебушка» и часто бормотала её про себя, когда скучала.
Скучала Зорька каждый раз, когда Глеб Иванович уезжал в город.
Случалось, это раз в месяц, дом запирался, поворачивался к лесу задом, к деревне передом и принимался ждать хозяина.
В такие дни скучала не только Зорька, но и все вещи в доме, а больше всех — печь.
Она даже позёвывала от скуки, прикрывая рот печной заслонкой, и потихоньку остывала, потому что если тебе некого греть, ты обязательно остынешь.
Печь была самая настоящая, какие в кино показывают.
А Зорька была мышь-полёвка, поселившаяся в доме с незапамятных времён, достаточно взрослая и умная, чтобы сейчас сидеть на подоконнике, грызть кусок засохшего сыра и рассуждать о вечном.
Окно глядело в лес.
Лес начинался сразу за домом, и от этого было не так страшно сидеть дома одной.
Лес был густым и непроходимым, он был похож на печку, в которой никогда и никто не остывает.
Зорька отложила сыр в сторону, потянулась, улеглась, обмотала себя хвостом, прикрыла глаза и улыбнулась.
Всё-таки хорошо, что у неё есть имя. И хорошо, что оно ей в самый раз.
Чтобы жизнь удалась, должно с именем повезти. Имя должно быть впору. А ещё — уютным. С одной стороны, чтобы не потеряться. С другой – чтобы защищало. Что-то вроде норки, вот.
Зорькой её называл Глеб Иванович.
А она его Глебушка.
Про себя, конечно.
Потому что мышам с людьми разговаривать запрещено. По крайней мере, пока. Зато со всеми остальными – и в лесу, и в доме – пожалуйста.
Глебушка работал писателем и кроме Зорьки у него больше никого не было.
Правда в городе жила его бывшая жена, но она была сама по себе, то есть — у него с ней не было общей печки, если вы понимаете, о чём я.
Жена ушла «от безденежья», как объяснил Глеб Иванович однажды.
Глебушка, когда не писал свои книги, очень любил с Зорькой поболтать.
Она на звук его голоса всегда из своей норы вылезала, прихватив что-то из старых запасов, усаживалась в старый тапок у печки, который так и назывался «Зорькин Тапок», подпирала рыжую голову лапой и принималась слушать.
Слушать Глебушку было одно удовольствие, а уж в прикуску с кубиком сахара, изваленного в крошках, и-эх, не жизнь, а малина.
И вот что удивительно.
Глеб Иванович, как человек, был глубоко несчастен, но никогда на это не жаловался.
Каждая его история была похожа на зёрнышко, крепкое да мудрое, в землю его посади, полей щедро – что угодно вырастет. И пальма, что тень даёт, и яблоня, что райский сад обещает.
— Может быть Глебушка не жалуется, потому, что он и не догадывается о своём несчастье? – подумала Зорька и перевернулась на спину.
Покусывая и мусоля душистый прутик от веника, она продолжала размышлять.
Каждая мышь на свете прекрасно знает, что человек существо несовершенное, а оттого несчастное.
Несчастьем он готов считать всё, что под руку подвернётся. Например, дождь, и выйти из дома нельзя.
Так радуйся, что дом есть.
И уж тем более считается несчастьем то, что под руку подворачиваться не хочет.
Например, деньги.
Так радуйся, что, жив и можешь с мышью поболтать.
Своей постоянной готовностью радоваться Глеб Иванович совсем не походил на остальных людей.
Впрочем, у остальных не было Зорьки.
Когда историй у Глебушки собиралось на целую книгу, он их записывал на листах пожелтевшей от ожидания бумаги, складывал написанное в старый портфель, доставал из облупленного гардероба свой единственный, а потому лучший, костюм и отправлялся в город.
— В издательство, — сообщал он своему отражению в зеркале, наливал в пластмассовое блюдце молока, ставил его рядом с Зорькиным тапком, запирал дом и уходил на целый день.
Что такое это самое «издательство», Зорька себе представляла смутно, но понимала, что место это для её Глебушки неподходящее.
Возвращался он каждый раз оттуда не то, чтобы смурной.
Но обескураженный, это точно.
Осторожно клал портфель с ненужными издательству рассказами на самое видное место.
Снимал парадный костюм, аккуратно вешал его на плечики, запихивал в пустой гардероб.
Доставал из хромого буфета заветный графин с огненной жидкостью внутри, усаживался в своё любимое продавленное кресло и начинал, как говорится, употреблять.
Сам употребляет и сам, нет-нет, а поглядывает на портфель-то.
Тут Зорька начинает суетиться не по-детски.
То в Тапок заберётся, то блюдце вылизывает, то заложит лапы за спину и давай из угла в угол маршировать.
А всё потому, что вот этот самый момент употребления огненной жидкости и сразу после — самый важный момент и есть.
Минут через сорок, сорок пять, даже можно время не засекать, Глебушка её ненаглядный вскочит, как ошпаренный, и давай листы, мелким почерком исписанные, из портфеля доставать, в печку засовывать, приговаривать незнакомые Зорьке слова и плакать.
Листы горят быстро.
Слёзы высыхают ещё быстрей.
И вот уже совсем ночь за окном, Глебушка снова в кресле сидит, Зорька напротив.
— Понимаешь, — говорит он, а сам удивляется, будто в первый раз, — Понимаешь, они говорят, что рассказы мои слишком добрые. И люди такие читать не станут. Просят, чтоб кровища и дымища. Тогда, говорят, дадим аванс.
Зорька понимает.
Кивает, подходит ближе, находит дырку на носке, греет Глебушке большой палец.
Аванс это хорошо.
Аванс это сыр и молоко, а ещё хлебушек.
Глебушке без хлебушка никак нельзя.
Конечно, у Зорьки какие-никакие запасы есть.
Но долго на них вдвоём не продержаться.
— А я им говорю, — запальчиво продолжает Глеб Иванович, поглядывая на огненный графин, предусмотрительно убранный в буфет, — Отвечаю, значит, что от историй про кровищу и дымище, горя вокруг больше будет. Разве можно, чтоб горе-то, ну скажи, скажи?
Зорька и говорит.
С Глебушкой можно.
Он, вроде, как свой.
— Да ты, поди, голодная, — спохватывается он, — Надо нам с тобой ужин сообразить.
Глеб Иванович встаёт, идёт к холодильнику, открывает, догадываясь, что он пустой… Ну а вдруг?
Потом закрывает, оглядывается на Зорьку и смущённо пожимает плечами.
— Сегодня придётся без ужина.
Опускает голову и возвращается, шаркая, к своему креслу.
Зорька оглядывается по сторонам, ничего подходящего не находит, хлопает себя лапой по лбу, убегает в норку и через пару секунд возвращается с куском засохшего сыра подмышкой.
— Вот, бери, — протягивает она своё лакомство Глебушке и повторяет ещё громче, чтоб он наверняка услышал.
— Бери, Глеб Иванович. И не думай, у меня ещё есть.
Звёзды высыпали.
Лес качает мохнатой головой.
Зорька дремлет в Тапке.
Один Глебушка не спит.
Он теперь точно знает, как ему быть.
Он сидит за столом, согнув плечи, кажется, будто рука его сама водит по бумаге, а мысли далеко-далеко.
— Не могу же я у мыши на содержании жить, — бормочет он, будто сам себя уговаривает, — Не могу. Поэтому будет вам кровища и дымища, ох, будет.
К утру, когда небо потеплело, новая повесть была готова.
Она называлась «Пепелище», от стопки жёлтых листов пахло гарью.
Зорька уже проснулась, она умывала мордочку и с недоумением смотрела на Глебушку.
Что-то случилось этой ночью и ей стало труднее читать его мысли. И куда это он собрался, неужели снова в город?
Дверь захлопнулась.
Блюдце осталось пустым, молока в доме не было.
Глеб Иванович в костюме и при портфеле снова отправился в город.
Вернулся он только на третий день.
Издатель был настолько поражён тем, что ему предоставил безнадёжный, казалось бы, автор, что пригласил Глеба на организованный тут же, на скорую руку, корпоратив, пообещав золотые горы, аванс, а очень возможно, что и сериал по сценарию.
— Вот только название придётся изменить. Пепелище это, батенька ты мой, недостаточно хлёстко. Мертвячинки бы сюда побольше, а? Что скажешь? — уговаривал издатель, попахивая вчерашним луком и завтрашним успехом.
Обалдевший от голода и от издательской ласки Глеб Иванович мотал головой из стороны в сторону и было непонятно, соглашается он с мертвячинкой или нет.
Потом был корпоратив, потом ночёвка на чьей-то даче, потом утро в издательстве, помятое лицо, вспотевший костюм, ручка в дрожащих от вчерашней огненной жидкости руках.
Ручка сама вывела его подпись на договоре с издательством, аванс сам запрыгнул в карман.
Дорога домой не запомнилась, разве что ветер из открытого окна маршрутки, но позвольте, отчего так пахнет гарью?
Глебушка даже в портфель заглянул.
Да нет, не может быть.
Он же в издательстве рукопись-то оставил.
Но воздух горчит и горчит, и вот уже нечем дышать.
— Хулиганы. Говорю вам, хулиганы. У нас этих хулиганов — полдеревни. Нечем молодым заняться, вот и бузят. То окна бьют, то траву поджигают. А тут, вишь ты, до домов добрались.
Люди стоят толпой.
Переговариваются.
Когда толпа, всегда страшно.
Вот и дом не видать, за толпой-то.
Глебушка стоит на краю своей деревни, смотрит тупо вокруг и не понимает, куда подевалось его кресло.
А печка?
И Зорьки не видать, люди, ау, вы мою Зорьку не видели?
Кругом зола и обгорелые доски.
От печки остался лишь остов.
Холодильник без дверцы похож на кричащий рот.
— Зорька! — шепчет Глебушка, — Где ты, Зорька моя?
Просыпается.
Встаёт с кровати, подходит к столу, смотрит на гору исписанных листов, берёт в руки самый заглавный, с надписью ,,Пепелище,,.
Хватает всю эту стопку и бросает в мирно пыхтящую печь.
— Правильно сделал, — говорит Зорька, потягиваясь на подоконнике.
Глебушка оборачивается.
— Надо же, — говорит он, — Я и не знал, что мыши разговаривают.
И, довольный, усаживается писать вот этот рассказ.
Про Матушкина
— Знаете, а ведь у меня сегодня день рождения, — прошептала женщина рядом.
Он оглянулся. Кроме него и этой самой женщины в приёмной никого не было.
Возраст? Да чуть за сорок, пожалуй. Маленького роста, волосы светлые, пушистые, чуть растрёпанные.
— Надо же, какая она… уютная — вот, — подумал Сергей, поправил на лице маску и ответил:
— Поздравляю.
— Спасибо. Хотя, если по-правде, особо не с чем, — наклонила она голову и Сергей увидел, что женщина плачет.
— А слёзы это лишнее, — нерешительно произнёс Сергей и вдруг добавил, — Это я вам как бывший моряк говорю.
Она послушно вытерла глаза и посмотрела на него с интересом.
— Вы бывший моряк? Надо же. И что – моряки, выходит, не плачут?
— Ни за что, — с воодушевлением ответил Сергей Матушкин, в недавнем прошлом детский доктор, — Ведь соли в море и так предостаточно. Зачем же его пересаливать?
И фамилия, и профессия очень подходили нашему герою.
А моряком он в детстве и правда мечтал стать.
Но детство давно кончилось, а взрослая жизнь принесла много чего, тут уж не до моря.
Зато, несмотря на это самое «много чего», Сергей за долгие годы жизни так и не смог придать своему голосу взрослую строгость, а плечам мужественную несгибаемость.
Вот и проглядывали, а вернее высовывались, словно перья из подушки – то детское несолидное любопытство, то готовность вскочить и бежать на помощь по первому зову.
Даже сейчас, несмотря на дурацкую эту маску, можно было догадаться: перед вами именно Матушкин, а не какой-нибудь Пароходько или Боцманов.
— И сколько же вам стукнуло? – спросил Сергей.
Не то что бы ему было интересно. А вот разговором отвлечь – почему бы нет? И потом — уж больно уютная женщина попалась.
— Полукруглая цифра, — усмехнулась она.
— Это как же – полукруглая? – удивился её собеседник.
— Сорок шесть, — ответила она и вздохнула, — Больше не ягодка.
— Ну, знаете ли, — решил возразить Матушкин, почувствовав себя неуклюжим дамским угодником, — Э-э-э… М-мм…
— Знаю, знаю, — и глаза её наконец улыбнулись, — Знаю всё, что вы сейчас скажете, и что возраст это состояние души, и что главное это не цифры, и…
— Вот и нет, — он сделал вид, что обиделся, — Я вовсе не про это, скажете тоже, главное – не цифры. Цифры – очень даже главное. Мне вот, например, пару месяцев назад шестьдесят стукнуло. И ещё как стукнуло. Аж накрыло.
— Да? – она посмотрела на него с любопытством, — Ну и как это – шестьдесят? Страшно?
— Помилуйте, барышня, — начал было Сергей, но тут же сам себя перебил, — Можно, я вас барышней буду называть? Вам подходит.
Женщина махнула рукой, мол, почему бы и нет.
— Так вот, — продолжал наш бывший доктор, — Ничего страшного. Довольство и созерцание. Созерцание и размышления. Размышления и…
Мимо них пробежала пухлая медсестричка в маске.
Двое вспомнили, где они сидят, поглядели друг на друга и рассмеялись.
— Надо же, — всплеснула руками женщина, — Я даже на минутку забыла, куда и зачем пришла, чего жду.
— А у меня память отличная, — гордо сказал Сергей и приосанился, чтобы произвести впечатление, — И если вы сейчас мне скажете, как вас зовут, то я ваше имя до следующей нашей встречи ни за что не забуду.
— Меня зовут Катарина. Польское имя. А откуда вы знаете про следующую встречу? – спросила она и посмотрела на него доверчиво, как маленькая.
— Катарина, — мечтательно протянул Сергей, — Очень подходит для барышни. А ещё — для урагана.
Он раскрыл свой пузатый портфель, больше похожий на докторский саквояж, достал оттуда потрёпанную записную книжку, сделал вид, что заглядывает и размышляет, пробормотал:
— Понедельник, вторник, среда. Да.
Поднял добрые глаза на Катарину:
— Что же касается будущей встречи, то тут всё просто. Я попрошу доктора, чтобы наши с вами м-м-м-м… процедуры… совпадали по времени. Вы сколько раз в неделю на химию приходите?
— Я? – Катарина растерянно поглядела на Сергея, покрутила в руках ремешок от сумочки, — Э-э. Это. Ну да. Два раза.
— Вот, видите, — обрадовался он, — И я буду приходить. Так что…
— Матушкин! – из кабинета напротив вышла медсестра, пофигуристее прежней, — Заходите, — и она махнула рукой Сергею.
Бывший доктор неторопливо поднялся.
— С днём рождения ещё раз! – сказал он Катарине, — И больше, пожалуйста, не плачьте. А остальное я беру на себя.
В кабинете, спиной к огромному окну, сидел Главный Врач, листал историю болезни Катарины.
За всё то время, что они были знакомы, Сергей никак не мог вспомнить, на какого именно артиста похож Главный (Евстигнеев? Смоктуновский? Бельмондо?), а когда дома, после очередной встречи, пытался представить строгое и красивое лицо, оно неизменно расплывалось и превращалось то в облако, то в яблоко.
— Привет, — кивнул Начальник Сергею, — Садись, рассказывай.
Сергей присел на край неудобного жёсткого стула, примостил свой саквояж на коленях, раскрыл.
По кабинету, словно бабочки, разлетелись катаринины страхи, печали, грехи, а иначе говоря: «всё то, из чего состоит любая человеческая болезнь», — как учил Сергея Главный на их первой встрече.
Их первая встреча случилась в то самое утро, когда Матушкину должно было исполниться шестьдесят, но он скоропостижно умер.
Именно благодаря этой самой скоропостижности, на самую главную в жизни встречу Сергей явился в ночной пижаме, взлохмаченный, но почему-то с верным саквояжем в руках.
Потом всё завертелось по-обычному в этих краях сценарию, Сергея очень быстро приняли на интенсивные курсы переподготовки человека в ангела, и вот — наконец-то! – после долгих тренировок, тестов, экзаменов и бессонных ночей в библиотеке — первое задание и — надо же, как повезло — Катарина.
Матушкин рассказывал.
Главный Врач слушал.
Катарина сидела за дверью, ждала очереди на химиотерапию.
— Хорошая работа, — одобрительно хмыкнул Главный, встал с кресла, подошёл к окну. Постоял, понаблюдал за нахальными галками, скачущими по больничному двору.
— Для первого раза – так и вообще отлично, — кивнул он Сергею, — Вот что значит – бывший доктор. Да и правильно говорят: бывших докторов не бывает. Ну что ж. Назначу ей ещё два года жизни. Заслужила. А тебя перебрасываем на новое задание.
— Э-э, я … это… – промямлил Сергей и обхватил саквояж руками, будто хотел его от кого-то защитить.
— Да? Слушаю, — и Начальник посмотрел на Матушкина своими серьёзными серыми глазами.
— А нельзя ли мне продолжить работу с Катариной? — набрался смелости и выпалил бывший доктор, — Дело в том, что… Обнаружились некоторые неучтённые факты её биографии… Может, я насобираю в её защиту ещё хотя бы годик?
— Влюбился, — вздохнул Заведующий, — И что мне с вами делать, скажи на милость? Отчего это наши ангелы такие влюбчивые, а?
— Ничего подобного, — запротестовал Матушкин, — Просто…
— Просто, — проворчал Главный, — Всё вам просто.
Он отошёл от окна, уселся на место, закрыл историю болезни, уставился на Сергея.
— Условия тебе известны, не так ли? – спросил после долгой паузы, — Хочешь остаться рядом с подопечным, все страдания – пополам. Не передумаешь?
— Нет, — помотал головой Матушкин, — Ни за что.
Главный Врач пожал плечами, нажал серебристую кнопку сбоку от стола.
Посидели, помолчали.
В кабинет зашла третья медсестра, в отличие от первых двух, была она старенькая, даже дряхлая.
— Новый пациент? – кивнула она на Сергея.
— Да, — ответили оба, одновременно.
Когда Матушкин повернулся, чтобы выйти за медсестрой, Главный Врач его окликнул.
— Ей осталось два года. Рак. Боль. Метастазы. Выдержишь?
— Постараюсь, — кивнул Сергей.
Он зашёл в смежный кабинет вслед за медсестрой, улёгся на кушетку, засучил рукав.
Старуха ловко воткнула иголку в вену, присоединила инфузию.
На белом пакете с лекарством было написано крупными чёрными буквами:
,,Страдание,,.
— Здесь у вас ошибка, — улыбнулся Сергей и показал пальцем на надпись.
— Где? – подслеповато прищурилась медсестра.
— Да вот же, вот.
Матушкин дотянулся до своего саквояжа, достал ручку, наполненную красными чернилами.
Открыл колпачок, приподнялся на локте.
Высунул язык от старания и приписал две красные буквы к чёрной надписи на пластиковом пакете.
Получилось: ,,СО-страдание,,.
— Хорошее слово, — прошептал Матушкин, прикрывая глаза, и добавил:
— И пожалуйста, пусть капает побыстрее. Мне надо успеть встретить одну… женщину.. То есть, барышню. То есть. Жену.
Медсестра кивнула.
Через два часа Главный Врач отвлёкся от совещания в Зуме, встал со своего кресла, потянулся, подошёл к окну.
Из дверей онкоцентра вышли двое.
Женщина шла лёгкой походкой и что-то щебетала на ухо своему спутнику, то и дело наклоняясь к его плечу – доверчиво и по-детски.
В мужчине с широкими плечами и гордо посаженной головой Главный с трудом узнал прежнего Матушкина.
— И всё-таки, Любовь это Химия! – подумал Главный Врач, довольно потёр руки, открыл историю болезни Катарины и приписал нолик к цифре 2.
Безымянная Картина
Дом был на снос, жильцы давно выехали, тот, кто не выехал, умер.
В комнате с ободранными обоями висела безымянная Картина.
На картине, спинами к зрителю, сидели двое, а воздуха и света вокруг них было так много, что рама не могла удержать.
Когда Янка увидела эту красоту, то аж задохнулась от восторга.
— Гляди, — тронула она Янека за плечо, — Они совсем как мы, правда?
— Ага, — ответил тот, даже не посмотрев, — Совсем. Ну, давай, что ли?
Янка и Янек считались парой.
То есть, так считала Янка, а Янек не возражал, только морщился, если девчонка уж слишком нежничала.
Янке очень хотелось нежничать, это было непривычно, а потому захватывало дух.
Парни у неё и раньше были, но чаще — приятели, которым неудобно отказывать, такой уж у Янки был дурацкий характер.
— Ну, давай, что ли? — нетерпеливо повторил Янек и начал снимать со спины девушки видавший виды рюкзак.
Янка покорно опустила плечи, не переставая разглядывать картину, потом подошла ближе к стене, провела пальцами по холсту.
— Интересная техника, — сказала она и вдруг смутилась.
Повернулась к Янеку.
— Я когда была маленькая, рядом с нами жила соседка-художница. Она меня рисовать учила. Бесплатно, конечно. Говорила, что я способная.
— Способная, способная, — проворчал Янек, развязывая Янкин рюкзак, — Ну-ка, поглядим, на что ты способная.
Это была вторая Янкина зима на улице, первую она провела весело, жили общиной за городом, на заброшенной даче.
Их было восемь: пятеро мальчишек и три девочки, там-то она и познакомилась с Янеком.
Питались вскладчину, деньги добывали на улицах, способов было много, Янка быстро научилась.
У неё был лёгкий характер, а ещё быстрая соображалка, как говорил Янек, за это в общине её ценили и даже немного уважали, в отличие от других девчонок, которых считали ,,мясом,,.
Про ,,мясо,, это, конечно, обидно, но что делать, не Янка придумала уличные законы, а домой возвращаться ни ей, ни другим девчонкам было нельзя.
У каждой была своя невесёлая причина, но свобода от родичей всё искупала, только по вечерам было грустно.
После зимы наступила весна и Янка влюбилась в своего Янека ещё сильнее.
Из дома за городом пришлось уйти: вдруг нашлись хозяева дачи, община распалась, Янка прилепилась к Янеку, хотя в последнее время он стал странным и немного злым, такое бывает, если нюхать, что попало, или таблетки глотать.
Сама Янка поначалу ничего не нюхала, ей было это неинтересно, но ближе к лету Янек её уговорил.
— Ты даже не представляешь, какой потом может быть секс, дурёха. Попробуй, ну.
— Не нужен мне другой секс, — слабо отнекивалась она, — Мне и так хорошо.
Ей и правда было хорошо с Янеком, так хорошо, что дух захватывало, вот как от этой картины, только она стеснялась ему в этом признаться.
Ночевали они в подвалах и палисадниках, благо лето выдалось жарким, про зиму не думали, а когда пришла осень, Янка нашла вот этот дом.
— Говорят, его ещё долго не снесут, — сообщила однажды Янка, — Давай здесь останемся? Зиму переживём, а потом видно будет.
— А топить чем? — спросил Янек, — Как греться будем?
— Очень даже просто. На кухне стоит газовая горелка. Я проверяла, она работает, — ответила Янка и подумала, как это здорово, что они пара. Тем более, Янек — он такой…
Янек был красивый и умный, если, конечно, его умыть и накормить, а однажды он рассказал, что его родители богатые.
Впрочем, у многих бездомных ребят были состоятельные родители, это был не плюс и не минус, просто факт биографии.
Янка в душу не лезла, не спрашивала, почему Янек из дома ушёл, боялась, что он тоже спросит, а ей даже вспоминать страшно. Тем более — рассказывать.
Янка провела по картине рукой.
— Странно. Она не подписана. Безымянная, выходит.
— Безымянная и бездомная, — хмыкнул Янек, — Совсем, как мы.
Он достал из рюкзака батон, пакет молока, шоколадку.
— Я не понял, — нахмурил брови парень, — А где таблетки?
Янка вздохнула.
Полезла в карман, достала упаковку.
— Вот, — протянула она руку, — Только, может, не надо?
— Надо, надо, — ответил Янек и голос его задрожал от нетерпения.
Янка отвернулась и снова посмотрела на картину.
— Как ты думаешь, это небо или море?
Двое — парень и девушка — сидели спиной к зрителю, то ли на плоту, то ли на облаке. А то, что было вокруг — синее и белое, — согревало и уносило ввысь.
— Небо. Или море, — голос Янека был не синий и не белый. Ближе к серому, — Иди сюда, ну.
Ночь выдалась ясной и морозной.
Как только в доме затихли шорохи и стоны, девчонка на картине повернулась, схватилась рукой за раму и ловко соскочила на пол.
— Давай скорей, — громко зашептала она, протягивая руку парню.
Парень слез с синего плота, прошлёпал по нарисованной воде, спрыгнул на пол, стараясь не шуметь.
— Наконец-то угомонились, — проворчал он и чмокнул девчонку в макушку.
— И не говори, — покачала она головой и на секунду прижалась лицом к его мокрой куртке.
— Ой, какой ты мокрый, — воскликнула девчонка и всплеснула руками, — Давай скорей, а то простудишься.
Парень снисходительно улыбнулся и кивнул.
— Давай. Только я никогда не простужусь. Ведь у меня есть ты.
— А у меня ты, — просто ответила она и ребята принялись за работу.
Первым делом они побежали на кухню и отключили газ.
— Ещё чуть-чуть и мы бы уже не проснулись, — покачала головой девушка, глядя на спящих в обнимку Янека и Янку.
— Так однажды и случится, — вздохнул парень, — Ну и дурак же я, — неожиданно добавил он.
— Ты не дурак, — улыбнулась девушка, — Ты мой любимый.
Затем они принялись наводить порядок, накрывать на стол и развешивать сброшенную кое-как одежду.
Они отыскали в кухне две тарелки и две чашки, глиняный подсвечник и даже старую кружевную салфетку, чтобы накрыть остатки батона.
Шкафов в доме не осталось, поэтому пришлось развешивать кофты, юбки и рубашки на стенах, утыканных ржавыми гвоздями.
— Цветов не хватает, — сказала девушка, оглядев преобразившуюся комнату.
— Сейчас, — ответил парень.
Он подскочил, ухватился за раму, зачерпнул синего и белого.
— Вот, — протянул букет, — Пусть это будут васильки.
Девушка кивнула.
Поставила цветы в стеклянную банку с водой.
— Скоро рассвет, — вздохнула она, — Нам пора.
— Ещё минутку, — попросил парень.
Он наклонился к Янкиному рюкзаку, достал полупустую коробку, высыпал таблетки на ладонь.
— А с этим что? — повернулся он к своей подружке.
— Придётся взять с собой, — вздохнула она, — Налепим из них облаков, что ли?
— Или чаек, — задумчиво ответил он и положил таблетки в карман.
Когда Янка проснулась, вовсю светило солнце.
На столе стоял букет васильков, кухня светилась чистотой, юбки и кофты надувались, словно паруса, рюкзак подмигивал блестящими застёжками.
— Янек? — прошептала обалдевшая Янка.
— Я здесь, — откликнулся знакомый голос, и она увидела своего любимого в фартуке с петухами и с поварёшкой в руке, — Янка, тебе омлет из скольких яиц?
Янка зажмурилась и помотала головой.
Потом снова открыла глаза. Посмотрела на стену напротив.
Там висела пустая рама.
— Из трёх, — прошептала девушка.
* * *